
 |
Лекция 3
16. Резюме предыдущего: различие схем и объектов анализа
Коротко напомню вам ситуацию, на которой мы остановились прошлый раз. Объектом нашего рассмотрения и анализа является исследователь, проводящий какое-то исследование. Мы сами находимся “в стороне” и с помощью средств теории науки особым образом представляем его работу. Мы с вами договорились, что это представление, названное нами представлением науки , как “машины”, дает возможность рассматривать работу исследователя, как движение по определенным блокам этой машины и восстановление всех тех нарушений, которые в ней возникают. Мы условились также, что наш исследователь может вставать, по крайней мере, в две разных позиции: в позицию предметника, когда он связан рамками выбранной им или навязанной ему одной предметной машины, и в позицию методолога, когда он как бы выходит за рамки какой-то одной машины и начинает сопоставлять и сравнивать друг с другом разные машины, представляя вместе с тем возможные шаги своей работы в рамках каждой из этих машин. Работа методолога по своим средствам и процедурам существенно отличается от работы предметника. В дальнейшем мы будем ее специально рассматривать, а пока я ее просто элиминирую с тем, чтобы мы могли сосредоточить все свое внимание на работе предметника. Наше действие означает, что выбранный нами исследователь как бы накрепко привязывает себя к той системе науки, которую он выбрал, и может видеть все явления окружающего мира только с точки зрения тех представлений, онтологических схем и понятий, которые заключены в этой машине.
В систему любой науки входит блок эмпирического материала, рядом, как вы помните, блок онтологических схем и моделей, дальше – блок теоретических знаний, блок средств и блок метода. Кроме того, над этой системой имеется еще блок проблем и задач. Я напомню вам, что проблемы для этого исследователя есть особая форма фиксации несоответствий между наполнениями, или содержимым, разных блоков машины.
Мы с вами остановились на том, что исследователь прежде всего конструирует некоторый факт. Мы определили факт как некоторое несоответствие между имеющимися у исследователя схемами и тем, что он наблюдает в реальности. Когда я говорил только что, что исследователь привязал себя к этой системе машины, то это означало, что он выбрал определенные средства и определенные знания, или и то и другое вместе с определенными онтологическими схемами и сквозь их призму рассматривает явления, с которыми он сталкивается. Само по себе это достаточно сложная процедура. Сконструировать факты – это не значит, наложить на непосредственно наблюдаемое схемы средств или теоретических знаний. Конструирование фактов – особая работа. Это задание определенных объединений и связей между тем, что мы наблюдаем в реальности. Это освобождение от каких-то моментов, сторон того, что мы наблюдаем и вместе с тем разрыв или ограничение определенных связей. Вместе с тем, это – определенное соотнесение объединенных таким образом явлений с теоретическими схемами машины науки. Мы уже разбирали с вами такие случаи.
Мы предполагали, что когда дети распределили между собой роли, соответствующие какому-то замыслу, то дальше они действуют в соответствии с этими ролями. И действительно, первоначально, мы наблюдали именно такое положение вещей. Мы с вами разбирали несколько игр, в частности, игру в самолеты, которую я сейчас не буду повторно описывать, а отошлю вас к тексту предшествующей лекции. Воспроизведем лишь схемы, изображающие различные отношения между детьми, складывающиеся в ходе этой игры, и их динамику (схема 5).
Мы уже говорили выше, что научный факт создается расхождением между тем, что мы наблюдаем, и что представлено на введенных выше схемах, и теоретическими схемами. Это расхождение оформляется в виде вопросов особого рода.
Характер вопросов задает направление дальнейших исследований. В принципе очень важно тщательно и детально проанализировать все вопросы, которые могут встать в подобной ситуации. Но для этого, как вы сами понимаете, нужны соответствующие описания тех научно-теоретических схем, которыми пользуется исследователь.
Рассмотрим еще один момент, важный для наших дальнейших рассуждений. Мы начинали наше движение с изображения самого исследователя и той машины науки, на которой он работает (схема 3). Затем мы представили явления, которые наблюдаются этим исследователем, представили их в особой связи. Совершенно очевидно, что это совершенно иные изображения, нежели изображения исследователя и науки. Мы пока не очень хорошо представляем себе, кем, с помощью каких средств и из какой позиции создаются эти изображения явлений игры. Ясно лишь, что это какая-то иная действительность, нежели представленная нами действительность научного исследования. Нам важно, что это – особое представление, отличное от всех тех, которыми мы пользовались раньше и, вместе с тем, нам важно, что мы должны пользоваться этим изображением, должны включать его в свое рассмотрение и должны работать с ним. Эти утверждения справедливы, несмотря на то, что, казалось бы, мы и в одном и в другом случае – и когда говорим о содержимом блока эмпирического материала и когда говорим об игре как таковой – изображаем одно и то же. В одном случае мы представляем эту реальность одним способом, а в другом – другим способом. Различие этих видений и способов изображения еще должно быть нами пояснено.
Я специально останавливаюсь на этом пункте, ибо с него начинается как бы перелом в нашем с вами мыслительном движении или рассуждении. Мы переходим к принципиально иным средствам изображения и, вместе с тем, к иной позиции. Начнем это движение.
17. Конструирование схемы
Итак, мы зафиксировали два явления. Одно соответствует плоской теории игры, второе – не соответствует. Собственно, именно это – связь двух явлений, одно из которых соответствует нашим теоретическим схемам, а другое не соответствует, мы и называем фактом. В этой позиции, хочет он того или не хочет, исследователь должен выступать в роли кудесника. Зафиксировав несоответствие между принятыми схемами и тем, что наблюдается в реальности, исследователь должен построить новые схемы, которые бы “схватили” и объяснили вновь созданные факты. При этом новые схемы должны “снять” все то, что описывалось раньше в прежних схемах, и одновременно отобразить то новое, что в старых схемах не могло быть схвачено. Другими словами, новая схема должна содержать все то, что было в прежних схемах, и еще нечто, что описало и объяснило бы явления, казалось бы, противоположные. И все это должно быть изображено и представлено в одной схеме.
На прошлой лекции я специально подчеркивал, что все “факты” выступают как противоречие между реально наблюдаемым и уже схваченным в схемах. И до тех пор, пока какое-то явление не представлено таким образом, у науки нет стимула для своего развития. К тому же у нас обязательно должна быть установка на то, чтобы схватить разные явления в одной схеме. Если бы мы при конструировании наших фактов не связали друг с другом одного и другого, противоположного первому, явлений, если бы мы не поставили задачу объяснить их с помощью одной схемы, то не было бы факта, требующего развития научных понятий. Первое явление было бы объяснено с помощью одной схемы, а второе явление – с помощью другой схемы.
Когда мы рассматриваем апории или парадоксы, зафиксированные Аристотелем или Галилеем, то там факт противоречия между знаниями очевиден. Но это происходит потому, что мы наблюдаем результат определенной мыслительной, логической работы ученого. По сути дела, и они начинали с таких же явлений, какие мы сейчас описываем и фиксируем как некоторые факты. Это значит, что и мы должны проделать определенную работу, чтобы представить различие двух зафиксированных нами явлений, как особого рода противоречие. И это в общем не так уж трудно сделать.
Итак, факт, фиксирующий противоречия явлений имеющимся теоретическим схемам, заставляет нас строить новую схему. Но откуда мы ее возьмем? Откуда и как создаст ее рассматриваемый нами исследователь? В старой системе научных представлений – онтологических схем, теоретических знаний, средств и методов – такой схемы нет.
В этом месте исследователю вновь приходится принимать сложное моральное решение. Почему я называю его моральным? Дело в том, что по принятой у нас сейчас традиции эмпирического психологического исследования, исследователь должен в этой ситуации идти на базу, в детский сад и набирать материал. Именно это говорят ему почти все научные исследователи и именно этого требует от него Ученый совет. Исследователь должен набирать материал – один, другой, третий... – по возможности больше. Почти ни один научный руководитель не говорит, что, сколько бы нового материала в этой ситуации ни набирал исследователь, ему, в общем-то, ничто не может помочь. Здесь исследователь встает перед собственно творческой задачей, он должен выступить как конструктор, как проектировщик, как создатель чего-то из ничего. Он должен выдумать, сотворить новую схему. Он равен в этом своем акте Господу Богу.
Я, конечно, огрубляю реальное положение дел, но делаю это сознательно. Но мне важно сейчас подчеркнуть указанный момент, может быть даже несколько утрированно. В принципе, ведь нельзя ничего создать из ничего. Исследователь всегда создает новую схему из чего-то, на что-то опираясь, от чего-то отталкиваясь, что-то преобразуя. Когда новая схема будет создана, нетрудно будет показать – и это будет соответствовать сути дела – что она была создана, во-первых, из уже имевшихся ранее схем, а, во-вторых, то, что он представил в схеме, и так уже было видно из имеющегося эмпирического материала. Всегда найдется большое количество людей, которые, имея перед собой новую схему и производя ретроспективный анализ, скажут, что из намеченного факта непосредственно вытекала созданная этим исследователем новая теоретическая схема. Но это психологическая иллюзия. Действительно, когда постфактум мы смотрим на эмпирический материал, представленный в схеме, то мы обычно удивляемся, как раньше люди могли этого не заметить и почему прошло столько времени, прежде чем было увидено то, что так отчетливо и ясно представлено в эмпирическом материале. Но все это возможно только после того, как схема создана. На деле же, конечно, новые схемы извлекаются отнюдь не из эмпирического материала. Они создаются прежде всего из уже имевшихся ранее схем, и часто они связаны с ними той или иной конструктивной связью развития. При этом определенную роль играет и эмпирический материал, поскольку факты это и есть то, что должно быть описано и объяснено в новых схемах. Все это так, и все это я хорошо понимаю и сознаю. Но, сознавая все это, я говорю, что в ситуации, подобной той, которую мы описали, исследователь должен создать нечто новое. Он должен создать то, чего еще не было. И, в принципе, в этом ему не может быть помощи от эмпирического материала. Он должен выдумать здесь нечто новое и выдумать это “из головы”, фактически он должен создать нечто из ничего.
Если исследователь умеет это делать, если он в принципе уважает подобные игры, то ему, в принципе, нетрудно это сделать. Но, если он не привык играть в эти игры, если он не надеется на свои собственные творческие способности и умение придумывать новые, самые разнообразные вещи, часто впрок, часто не соответствующие тому эмпирическому материалу, который он имеет, то он вряд ли сможет быть исследователем. Короче говоря, я призываю вас предельно ценить чистую игру ума, или, как говорит А.Н.Леонтьев, любить “безумство духа”, и почаще играть в эти игры в свободное время, когда оно у вас выдается.
Я сформулировал принцип. Но теперь я очень резко поправлюсь (желая вместе с тем, чтобы запомнили и сохранили высказанный выше принцип как норму деятельности).
Очень часто работа по выдумыванию новых схем, по их созданию характеризуется как интуитивный процесс, ничем не регулируемый, никаким образом не описываемый, некоторое таинство, которое у одних, может быть, и происходит, а у других не происходит, говорят даже, что те, кто умеют это делать, с этим родятся, а если от рождения этого не получил, то уж не приобретешь и т.д. и т.п. На мой взгляд все это глубоко неправильно. Процесс создания новых схем подчиняется очень определенным и строгим правилам, этому делу довольно легко выучиться, подобно тому, как учатся складывать 3 и 4 или 5 и 7, и делать это в соответствии с формальными правилами. Но все это возможно только в том случае, если на эту деятельность будет обращено специальное внимание и если ей будут специально учиться.
Когда научные руководители говорят своим аспирантам или сотрудникам, что в ситуациях подобных тем, которые мы описали, нужно идти на базу и набирать все новый и новый эмпирический материал, то делают очень вредное дело, по сути дела лишают своего аспиранта или сотрудника возможности решить научную задачу и провести настоящее научное исследование. Научные руководители делают это потому, что они, как правило, не могут научить работе по созданию новых схем, новых научных понятий, средств и методов. Вообще научные руководители в наших исследовательских институтах не учат аспирантов вести научные исследования, а надо бы учить.
Недавно мне рассказывали, что в Японии игры, о которых я говорил, проводятся постоянно и имеют общенациональный характер. Они показываются по телевизору примерно так же, как у нас показывают КВН. Там даются либо задания на месяц – и любой может принять в них участие, либо же это задание, которое нужно выполнять моментально, прямо в студии телевидения. В обоих случаях людям дают задания на выдумывание, конструирование чего-то существенно нового. И масса людей участвует в этой игре. Но это само возможно лишь потому, что в Японии, начиная уже с начальной школы, много времени отводится подобным играм, дизайну, как это принято сейчас говорить. У них есть специальные школы-курсы по конструированию и все дети в обязательном порядке, на строго регламентированных уроках учатся это делать и делают.
18. Снова философско-методологическая позиция:
расщепление знания и объекта
Выдумывание в области науки, о котором я говорю, предполагает переход на совершенно особую позицию. Зафиксировав некоторый факт, исследователь должен после этого задать вопрос особого рода, он должен спросить себя, чем является или что представляет собой тот объект, с которым он имеет дело.
Философия появилась тогда, когда стали вставать подобные вопросы. Обычно такой вопрос назывался, да и сейчас нередко называется, метафизическим или онтологическим, не в смысле противоположности диалектике, а в старом смысле слова “метафизика”, т.е. в смысле вопроса о природе бытия объекта.
Вы помните, что до этого рассматриваемый нами исследователь принимал систему средств, заложенных в выбранной им машине науки. Он все видел сквозь призму этих средств – онтологических схем, теоретических знаний и метода. Любые явления, с которыми он сталкивался, могли быть и были только такими, какими они были потенциально представлены в его машине науки. Когда исследователь зафиксировал новый факт, то тем самым он фактически показал, что эти явления не такие, как их представляет данная машина науки. Но если они не такие, какими он их раньше видел, то здесь неизбежно приходится задавать вопрос: какие же они?
Вместе с тем, исследователь начинает по-новому видеть и ту схему, через которую он раньше видел эти явления. Теперь она выступает перед ним уже как схема особого рода. Если раньше, пользуясь выражением Гегеля, знание было для исследователя вместе с тем и объектом, а объект представал для него (перед ним) как его знание, то теперь знание рассматривается им только как знание, как знание, оторвавшееся от объекта и отодвинутое самим исследователем в прошлое, как уходящее или преходящее знание, а объект как таковой отделяется от знания и впервые начинает существовать как особое явление, пока не ясно, какое, но во всяком случае – как отличное от того, что виделось им раньше сквозь призму прежнего знания. Описывая эти процессы, Гегель говорил, что действительность у исследователя как бы расщепляется: раньше было знание, которое выступало одновременно как объект, а объект был тем, что представлено в знании, а теперь получаются два разных образования – знание, которое уже не адекватно объекту, и какой-то объект, который пока выступает в качестве неизвестного, в качестве Х.
Нам очень важно выделить описанную мной ситуацию и постараться ее понять. Здесь, вместе с тем, заложен ключ к пониманию функций и природы самой философии. Здесь впервые появляется и начинает существовать объект как таковой, как то, что пока неизвестно, но должно быть познано и изучено. Именно ситуация парадокса приводит к такому раздвоению единого на собственно объект и собственно знание, и здесь впервые ставится вопрос о том, что представляет собой объект как таковой. Добавлю, что эта форма предположения объекта и вопроса, задаваемого относительно его природы, есть единственная форма, в которой объект существует как таковой. Когда мы ответим на эти вопросы, когда мы построим новое знание об объекте, то объект как таковой опять перестанет существовать, он сольется с новым знанием, он получит в нем новую форму своего существования и будет жить в этой оболочке до нового парадокса и до нового вопроса о природе полагаемого объекта.
По отношению к положенному таким образом неопределенному объекту, объекту как таковому, и задается вопрос: что он такое? Этот вопрос, называемый обычно метафизическим, моментально выбрасывает нашего исследователя из той позиции, в которой он находился до того, как был задан этот вопрос, выбрасывает в новую позицию, в которой исследователь уже не может ограничивать себя тем, что входит в принятую им систему науки – ведь все это объявлено теперь неадекватным изучаемому объекту. Он вынужден принимать совершенно новую систему средств, если хочет отвечать на вопрос, что же такое объект. Исследователь не может больше двигаться в принятой им машине науки. Он должен перейти в методологическую позицию.
Задав метафизический вопрос, исследователь выбрасывает себя с позиции предметника. По интенции он должен перенести себя в позицию частного методолога. Но одного вопроса еще не достаточно, чтобы занять эту позицию. Кроме того, нужны еще специальные средства.
Я надеюсь, вы все понимаете, что фиксация научного факта и обусловленный этим вопрос о природе объекта еще не дают решения и мало чем могут помочь в поисках этого решения. Другими словами, одним фактом и вопросом еще нельзя ограничиться, нужно поискать еще что-то, чтобы реально занять методологическую позицию и суметь ответить на поставленный вопрос.
Именно здесь, как уже было сказано раньше, я существенно поправляю утверждение, сделанное мной раньше. Дело в том, что иногда в поисках ответа на метафизический вопрос действительно нужно отправиться за новыми фактами. Говоря это, я не думаю отказаться от сформулированного выше принципа: факты как таковые не помогают в нахождении принципиально новых схем. Я продолжаю на этом настаивать, но вместе с тем уточняю свои положения. После того, как исследователь задал вопрос о том, что такое объект, и перешел в позицию методолога, он может отправиться на поиски новых фактов, но уже не как предметник, не как представитель данной машины науки, а как методолог. И факты, которые он при этом будет искать, будут уже иного рода, чем те, которые искал бы предметник.
Говоря, что наш исследователь отправляется за новыми фактами уже не как предметник, а как методолог, я хочу сказать, что это будут факты принципиально иного рода, они будут конструироваться не в отношении к тем схемам, которые были заложены в данной конкретной машине науки, а должны конструироваться им в отношении к принципиально иным, собственно методологическим средствам и схемам.
Это очень тонкий момент. Тонкий – и в теоретическом понимании, и еще более – в конкретном осуществлении. И может быть это – один из самых тонких и трудных вопросов научного исследования.
Еще одно замечание. Нередко, особенно в тех случаях, когда какая-либо наука еще только нарождается и начинает накапливать свои первые схемы и производить свои первые расчленения, методологическая работа мало чем отличается от собственно предметной работы. Иногда кажется, что исследователь может найти факты, в такой мере прозрачные и отчетливые, причем это будет сделано на базе прежних схем, что сразу получится ответ на вопрос, что представляет собой объект, с которым имеют дело.
19. Характеристика первой сконструированной схемы.
Онтология и логика
Именно это, в частности, и произошло с нашим исследователем. Зафиксировав обнаруженный им факт, он отправился в путь, с одной стороны, по зафиксированным им знаниям из других машин науки, но при этом рассматривал их, как мы с вами подробно обсуждали, в качестве репрезентаций других знаний, а с другой стороны, он отправился в детский сад и стал смотреть на то, как играют дети. Я не знаю, что ему больше помогло – то ли движение по знаниям, накопленным другими исследователями, то ли его практический опыт воспитателя и умение наблюдать за деятельностью детей, то ли еще что, но во всяком случае, был зафиксирован довольно очевидный и описываемый всеми факт, а именно, что в мире детской игры существуют как бы два плана, – когда дети играют в соответствии с сюжетом и когда они выходят из него и относятся друг к другу как к членам коллектива. Во всяком случае, рассматриваемый нами исследователь достаточно ясно и отчетливо увидел, что выходя из плана сюжета, дети начинают перестраивать и регулировать, во-первых, сам этот сюжет, а, во-вторых, распределение составляющих его ролей между участниками единой и совместной деятельности, а, в-третьих, продолжительность действия каждой роли. Очень легко придти к мнению, что все это было видно непосредственно в наблюдаемых явлениях, хотя, наверное, видно было прежде всего потому, что это было уже известно из предшествующих теорий. С другой стороны, хотя все это было видно и известно, из этого не делали необходимых выводов. В этих условиях наш исследователь и создал схему, которая удовлетворяла сформулированным мной выше условиям: она снимала то, что фиксировалось в прежних схемах, и изображала новое, что не могло фиксироваться раньше. Эта схема была построена предельно просто: путем механического соединения двух схем. Я повторяю это была первая схема, и она была далека от совершенства. Значит, одна часть схемы изображала то, что происходит с детьми, когда они точно соблюдают сюжет, а вторая часть схемы, изображавшая как бы особое фиктивное пространство и время, была “приложена к первой”; это было пространство и время, в котором дети уже не соблюдают сюжет, не действуют в соответствии с составляющими его ролями, а ведут себя по какой-то иной логике, подчиняясь иным механизмам, законам и правилам.
Эти две части, фактически две схемы, были объединены в одну схему и начали работать в качестве первой объяснительной схемы для описания тех фактов, которые мы указали. Эти схемы обладали кучей недостатков. В известном смысле это были очень лживые схемы. По-настоящему они не объясняли те реальные факты, которые были выявлены через наблюдение. В реальности не было кусочка поведения по сюжету, а потом – кусочка поведения без сюжета. Реально было одно, единое поведение. И мы отчетливо видели это в том примере, когда дети использовали форму игровых действий для того, чтобы нанести одному ребенку отнюдь не игровые удары. Несмотря на это, на схемах мы представили это как действия двух различных типов: действие по сюжету в одном пространстве и времени и действия без сюжета – в другом пространстве и времени. Для тех случаев, когда дети и реально некоторое время выполняют сюжет, а потом не выполняют его, эти схемы были, казалось бы, достаточно хороши и правильны. Но эти случаи были не единственными и отнюдь не всеобщими. Нам ведь нужно было объяснить и описать некоторый обобщенный факт. А в нем было иначе. Там совсем не было разделения деятельности на деятельность по сюжету и деятельность вне сюжета, а было одно реальное поведение, в котором сюжетные отношения были формой проявления несюжетных отношений. Таким образом там было поведение и были действия в одном пространстве и времени. А в наших схемах они выступают как разложенные на два пространства и времени.
Можно было бы сказать, что подобное представление реального поведения, единого по своей природе в двойных схемах, разделяющих и противопоставляющих друг другу два пространства является просто ошибочным. И в каком-то смысле это так. Но это очень интересная ошибка, которую мы должны специально разбирать и анализировать. Я мог бы сказать, что именно в этой ошибке заключался ключ к решению многих проблем. Благодаря этой ошибке совершился прыжок в мир абстрактных схем, фиктивных конструктов, с помощью которых мы описываем реальность. Это была та сумасшедшая идея, которую в последнее время так часто ищут физики. Изобразив единое реальное поведение в виде двух разных поведений, совершающихся в разном пространстве и по разным законам, мы получили представление существа дела. Именно это существо дела и было выражено в факте двух схем. По сути дела, единое реальное поведение было расслоено, а потом два полученных слоя были положены рядом друг с другом и таким образом создали особое изображение рассматриваемого явления. В принципе изображение не очень-то соответствует сути дела: слои двуединого целого представлены на нем как два разных объекта. Но это уже следующий вопрос – о характере связи между ними. А важно что произошло само расслоение. Я вспоминаю трюк, который иногда делают с рублями: их тоже иногда расслаивают и тогда вместо одного рубля получют два односторонних рубля. Обратите внимание: не две половинки, а два односторонних рубля. Примерно то же самое сделал наш исследователь с поведением группы. Поведение было представлено не как состоящее из частей, а как состоящее из слоев. А в изображении слои были представлены как части.
Само по себе это еще не ошибка. Если мы сумеем выработать такие процедуры работы с составленными изображениями, что они по смыслу своему будут процедурами работы с двухслойными образованиями, то все будет в порядке, и неадекватность самого изображения не будет играть особой роли. Важно только придумать эти процедуры.
Иначе можно сказать, что предложенное решение было ошибочным с точки зрения метафизики, т.е. онтологии. С точки зрения логики здесь не было и не могло быть ошибки, ибо в логике важны не изображения (там нет непосредственного полагания соответствующей объективности), а операции или иначе способы работы с изображениями.
Такое представление изучаемого объекта появилось у нашего исследователя совершенно случайно, можно сказать, под давлением обстоятельств. Но сейчас, рассматривая все дело ретроспективно, мы можем отметить, что сам прием представления слоистого объекта, в виде составленного из частей, не был придуман им впервые. Он нередко и раньше встречался в истории науки. Физики сейчас делают примерно то же самое. В одних ситуациях экспериментальное изучение поведения частиц говорит нам о том, что они представляют собой дискретные образования, некоторые кванты. Это фиксируется в особых изображениях. Потом в других экспериментальных ситуациях обнаруживается, что частицы представляют собой непрерывную размытую волну. И это тоже фиксируется в специальных изображениях. Дальше, естественно, ставится вопрос о том, каков же на деле сам объект. Единственный ответ, который придумали физики, тот, что частицы есть и то, и другое. Ответ в определенном отношении совершенно бессмысленный, а с практической точки зрения – никуда не годный, ибо он ни к чему не может быть приложен. Теория еще допускает подобные диалектические соединения, а вот практика никак не может их допустить. Если я, к примеру, спрашиваю вас, стоит здесь передо мной стол или не стоит, имея в виду, что в зависимости от вашего ответа я либо пойду прямо, либо не пойду, и вы мне ответите, что он стоит и не стоит, то ясно, что с таким ответом мне нечего будет делать, и лучшее, что я могу попробовать, это пойти вперед, рискуя, однако, разбить себе колени. Когда физики принимают свою двуединую характеристику, они поступают примерно так же, как поступил наш исследователь. Две стороны или два аспекта одного явления, они прикладывают друг к другу в виде изображения его частей, и затем начинают пользоваться таким изображением. При отсутствии чего-либо лучшего это тоже приемлемо, если, конечно, вы при этом помните, что это только ваш прием и что на самом деле в объекте нет двух подобных частей, что на деле он един и какой-то другой непохожий ни на первое ваше изображение, ни на второе, ни на их сумму.
Когда мы анализируем случай, в котором дети сначала действуют по сюжету, а потом переходят к несюжетным отношениям, то на схемах это может быть изображено как переход или перескок ребенка из места в одной структуре (сюжетной) в место другой структуры (несюжетной). Это значит, что поведение и существование ребенка изображается на нашей схеме с помощью двух мест, двух ячеек наших структур. При этом, если мы рассматриваем второй случай, то переход ребенка из одного места в другое имеет свой объективный, онтологический смысл, ибо и в реальном поведении существует переход от сюжетных отношений к несюжетным. Когда же мы рассматриваем первый случай, в котором несюжетные и сюжетные отношения слиты, то переход из одного места в другое уже не имеет такого объективного (объектного) онтологического смысла и должен истолковываться нами совершенно иначе – как связь двух отношений или систем отношений. Как реально существует и осуществляется эта связь, мы пока не знаем, но на схемах она должна трактоваться как связь двух мест. Эта особенность отличает первую группу случаев от второй, ибо в последней связей между самими местами, по-видимому, нет: они устанавливаются случайно за счет перехода ребенка из одного места структуры (сюжетной) в строго определенное место второй структуры (несюжетной).
Нетрудно также заметить, что при истолковании первого случая с помощью наших двойных схем мы разлагаем не только места, но и отношения: одному отношению в реальности соответствует на наших схемах два разных отношения: одно в одной структуре, и другое – в другой структуре. Итак, одному ребенку в наших изображениях всегда соответствует два разных места, причем, как для первого случая, – сразу одновременно.
Это кажется странным и парадоксальным не только вам, но и мне, хотя я работаю с такими изображениями уже более пяти лет. И до сих пор я не могу к этому привыкнуть и не перестаю удивляться. Правда, точно так же я не могу привыкнуть и к массе других вещей – к существованию энергии и к функционированию сознания.
Но нам важно, что благодаря изображениям такого рода разделение поведения ребенка произошло и каждый ребенок стал существовать на схемах дважды. Но точно так же раздвоилось и стало существовать в виде двух отношений то единое отношение, которое было реальным.
Теперь несколько забегая вперед, я сформулирую парадоксальный тезис. Многие исследователи, в частности американские и английские, не могут сделать при изучении взаимоотношений детей в группах, на мой взгляд, только одного – этой “ошибки”, и именно это тормозит их продвижение вперед в исследовании групп и человеческих взаимоотношений. То же самое можно сказать иначе: именно эта “ошибка” дает нам ключ к анализу детских групп и взаимоотношений детей. Сказав это, я теперь вернусь назад и проведу систематическое обсуждение тезиса. Но вам уже легче будет следить за моими рассуждениями и понимать их, поскольку вы знаете, что именно я хочу сказать.
20. Пути методологического определения объекта
Выше я говорил, что, поставив вопрос о том, что такое объект, наш исследователь переходит в собственно методологическую позицию. Это означает, что теперь он должен анализировать свой объект с помощью особых средств, это должны быть особые средства методологии. Но что значит проводить собственно методологическое исследование? Я не буду сейчас давать общего ответа на этот вопрос, но я буду раскрывать разные виды методологической работы на примерах.
В данном случае это означает, что он должен решить, к какой категории принадлежит тот объект, с которым он имеет дело, иначе, – это вопрос о типе того объекта, который он исследует. Вам надо понять, почему я в этом месте делаю такой скачок. Вы уже знаете, что “смотреть” на мир, не имея определенных средств, вообще нельзя. До определенного момента такими средствами для нашего исследователя служили онтологические схемы, понятия и знания той машины науки, которую он первоначально принял. Эти средства, с одной стороны, помогают видеть нечто в объективном мире, а с другой стороны, заставляют видеть все строго определенным образом. Видеть или знать что-либо без схем нельзя. Но если в ходе своих работ наш исследователь отказался от исходно принятой машины науки, то это значит, что он уже не может смотреть на мир сквозь призму входящих в нее средств, он должен отказаться от всех ее схем. Но точно так же он не может пользоваться другими машинами науки такого же порядка общности. Он не может взять других предметных схем, поменять точку зрения Жуковской на точку зрения Аржановой. Но какими же средствами он будет пользоваться? Методолог – и в этом особенность работы такого рода – должен перейти к схемам большей общности. В этом случае он уже не спрашивает: каков именно его объект, что он представляет собой – это был вопрос из данной предметной системы или какой-либо другой, аналогичной ей.
Он спрашивает другое: к какому типу принадлежит рассматриваемый им объект?
Если бы он мог сразу же получить ответ на этот второй вопрос, то это и означало бы, что он подвел бы свой объект под ту или иную категорию. А смысл такого подведения состоит в том, что благодаря этому исследователь сразу же определил бы класс тех инструментов и класс тех “логик”, с помощью которых этот объект можно анализировать. Иначе говоря, ответ на этот вопрос указывает исследователю тот отдел средств в общем арсенале человеческого мышления, которым он может пользоваться с известной вероятностью на успех.
Здесь перед каждым из вас, естественно, должен встать вопрос о том, какие категории вообще существуют, т.е. вы должны поинтересоваться составом и, если можно так выразиться, планом указанного арсенала. Конечно, я не могу вам сейчас излагать все это подробно и систематически. Я введу лишь самый минимум, необходимый нам для дальнейшего.
21. Перечень и характеристика основных категорий
Первая по распространенности, но вместе с тем и сама по себе очень сложная категория – это “вещь”. Мы можем спросить, применима эта категория к изучаемому нами объекту? Чисто интуитивно мы можем дать отрицательный ответ. Чтобы сделать это достаточно тех изображений, которые нами раньше были введены.
Следующая категория – “качество–количество”. Конечно можно применить к нашим структурным схемам категорию количества: убрать связи между местами и посчитать число мест. (Кстати, я прошу вас обратить внимание на то, что я пользуюсь методом так называемого двойного знания. Я рассматриваю введенную нами схему как изображение объекта как такового, т.е. полагаю, что объект именно таков, каким мы его здесь представили. После этого, зная уже природу объекта, я спрашиваю, каким образом мы могли бы описать этот объект или отдельные его аспекты и стороны.) Но такое описание группы и группового поведения будет просто неинтересным и ничего не даст нам для понимания тех случаев поведения, которые мы взялись объяснить.
Здесь я опять-таки не могу не воспользоваться случаем и не сказать несколько слов на постороннюю тему. Сейчас все чаще и чаще можно услышать о важности применения математики в гуманитарных науках. Но эти призывы, как правило, – чистая дезинформация, ибо чаще всего применение математики – в социологии, психологии и других науках – преждевременно, так как либо объекты по своей природе относятся к другим категориям, нежели те, которые развиты в современных математиках, либо же эти объекты не допускают адекватного измерения. Поэтому, когда призывающие применять математику, начинают делать что-то реально, то они, как правило, совершают процедуры, подобные такому пересчету. Надо же как-то оправдывать свои лозунги. Вряд ли стоит специально объяснять, что такое применение не дает ничего путного.
Существует категория “процесса”. Можем ли мы применять ее для описания этого объекта? Нам опять приходится ответить на этот вопрос отрицательно. Такой ответ не будет означать, что мы не можем в поведении и деятельности детей выделить и изобразить какие-либо процессуальные моменты. Можем, но подобное представление будет сильно напоминать пересчет числа детей или мест в сюжете. Я не даром так подробно останавливался выше на характеристике процедуры, фактически осуществленной нашим исследователем. Если изучаемый объект представляет собой слойку, и в этом заключена суть описываемых нами явлений, то, выделив в этом объекте и описав какие-то процессуальные моменты, мы, очевидно, потеряем это слоистое строение. При описании каких-либо явлений как процесса, мы раскладываем нечто в ряд по времени или, иначе, организуем параметры этого объекта во времени. Но слойка по определению представляет собой такой объект, в котором один слой и другой существуют одновременно, и вся соль, если можно так выразится, заключена в этом отношении между слоями.
Таким образом, категории “вещь”, “качество–количество”, “процесс” здесь не подходят. Спрашивается, какая же категория подходит и должна быть нами использована? Мы говорим: категория структуры системы или, как ее чаще, хотя и не совсем точно называют, категория “системы–структуры”.
Я уже говорил вам на предшествующих лекциях, что категория “системы–структуры” является одной из многих категорий человеческого мышления, но ее особенность в том, что это – сравнительно новая категория. Человечество еще только-только начало ее осваивать и отрабатывать. Поэтому даже когда мы говорим, что объект, к изучению которого мы приступили, представляет собой систему или структуру, то мы делаем это без большой уверенности, иначе, с некоторой долей сомнения, хотя целый ряд соображений говорит нам, что это так. Иными словами, наше утверждение, что рассматриваемый объект представляет собой некоторую систему или структуру, является гипотезой. Мы это предполагаем и хотим попробовать провести анализ, соответствующий этой категории. Дальше мы посмотрим, удастся он нам или нет. Я надеюсь, вы понимаете, что это – гипотеза на уровне методологического анализа. Это значит, что сказав: этот объект – система-структура, мы хотим далее применить в его анализе весь тот инструментарий, который входит в категорию системы–структуры.
Таков первый ход, который приходится делать исследователю, перешедшему в позицию методолога, чтобы организовать свое исследование и начать анализ, отвечающий на вопрос о том, каков же его объект.
22. Категория системы как средство развертывания исходной предметной схемы
Обратите внимание на эти слова: начать анализ. Почему, собственно, я это говорю? Разве меня не устраивает та схема поведения (детей в группе), которую мы уже ввели? Да, по очень многим параметрам она нас не устраивает, но почему и как – об этом я буду говорить дальше.
Правда, я думаю, что вы уже догадываетесь, что логические схемы нашей работы останутся теми же самыми. С того момента, как мы сконструировали новую схему, мы получили в наборе средств новый инструмент и мы его будем использовать как только сможем. В частности, с его помощью мы будем далее строить новую онтологическую картину, и с помощью его же мы будем втаскивать в нашу машину новые факты. И если они будут втаскиваться, то это будет означать, что наша схема работает (но в принципе, и это мы увидим дальше, они не очень-то втаскиваются). К этому надо добавить, что работа с этой или с какой-либо другой схемой будет определяться тем, какую вопросную процедуру мы сможем осуществлять в рамках этой категории. Иными словами, даже если мы выбрали категорию системы-структуры, то мы должны еще решить вопрос о том, какие же собственно вопросы могут быть заданы в рамках этой категории. К обсуждению этого мы сейчас и перейдем.
– А если нет такой категории, которая бы соответствовала нашему объекту, что мы будем делать?
– У вас достаточно сложный и тонкий вопрос, и я отвечу на него совсем не просто.
Когда я сказал, что наш объект, по предположению, должен принадлежать к классу систем и структур, то есть, что мы выдвигаем определенную гипотезу, то я уже фактически включил ваш вопрос: я предполагаю, что, может быть, это и не так, и что наш объект не является системой-структурой. Но суть дела в общем-то в другом. Предположив, что этот объект является системой-структурой, мы получаем возможность работать, мы приступаем к делу и мы начинаем анализировать наш объект. А что будет, если мы предположим, что категории, соответствующей нашему объекту, еще нет. Нам придется опустить руки и заняться переживаниями по случаю того, что мы влезли в такое дело, для которого у человечества еще нет адекватных средств. Мне кажется, что с точки зрения идеи активности человечества наше гипотетическое предположение – более правильное решение, чем то, на которое вы нам намекнули. Но, кроме того, есть еще одно соображение. Я уже сказал, что категория системы–структуры является новой, что человечество только-только осваивает ее. Поэтому вполне естественно попытаться к новому объекту применить новые философские категории. Ведь наверно можно предполагать, что неудачи предшествующих исследований этого объекта были обусловлены неадекватностью тех категорий, которые мы к нему применяли. Кроме того, категория системы-структуры снимает в себе все другие категории, объединяет их, и поэтому, стараясь применить именно ее, мы тем самым исследуем наш объект самыми современными и самыми мощными методами.
23. Как возможен анализ системно-структурного объекта
Я уже сказал выше, что, сделав свое предположение о том, что группы являются системами-структурами, мы должны теперь составить для себя табличку тех вопросов, которые могут ставиться относительно системы-структуры, т.е. отделить логически допустимые вопросы от логически недопустимых. Поясню это утверждение на очень простом и наглядном примере.
Я мог бы задать вопрос: какое здесь количество стола? В принципе, когда я спрашиваю, вам понятно, что именно я спрашиваю. Указан объект, указаны процедуры, с помощью которых можно было бы получить ответ – мы знаем, что на вопрос “сколько?”, дает ответ счет или измерение. Но несмотря на все это, вопрос не имеет смысла, беспредметен, ибо не указано то свойство, по которому нужно мерить, и нет совокупности, которую можно было бы считать.
Значит, возвращаясь к нашим проблемам и к нашему объекту, мы должны определить те вопросы, которые будут логически правомерными в отношении систем и структур. Кстати, должен вам сказать, что сейчас очень непонятно, какие именно вопросы мы имеем право ставить в отношении этих объектов, а какие нет. Во многих работах вы будете встречать такие вопросы в отношении детских групп, которые на самом деле не могут ставиться в отношении системно-структурных объектов.
Но где и как мы можем набрать этот перечень допустимых вопросов?
Здесь исследователь, тактику и стратегию деятельности которого мы обсуждаем, вновь оказывается перед моральной проблемой. Заметьте, что я называю “моральными” проблемы, которые возникают в связи с тем, что исследователь выталкивается из принятого им вначале предмета исследования – психологического, социологического или какого-либо другого – и вынужден заниматься принципиально иной работой. В данном случае это оказывается методология системно-структурного анализа.
Но положение действительно сложно. Лишь в той мере, в какой исследователь продвинется в области системно-структурного анализа, он сумеет продвинуться и в своем собственном предмете, в решении исходно вставших перед ним задач. А если его не устраивает такой вариант – вы понимаете, что на него не так легко согласиться – то ему остается только один путь: отказаться от своей исходной темы и подождать, пока “чужой дядя”, то есть либо “чистый методолог”, либо физики и химики, разработают необходимые ему категории системно-структурного анализа. Другого выхода нет. Поэтому я называю эту проблему моральной: исследователь должен либо уйти от своего родного предмета, из своей научной деревни, либо же отказаться от самого исследования.
24. Замечания в сторону: Л.С.Выготский и его ученики
Здесь я хочу рассказать вам немного об истории нашей советской психологии. Именно в такой “моральной” позиции оказался Л.С.Выготский, когда он сформулировал основные принципы своей культурно-исторической теории. Он вынужден был порвать с традиционной психологией и привлечь логические методы исследования. Но случилось так, что четкое осознание этого факта пришло лишь к 1933–1934 гг., то есть ко времени, когда Выготский, зная уже о приближении смерти, заканчивал свою основную книгу. Поэтому обсуждение сложившейся “моральной” ситуации и путей выхода из нее автоматически перешло к его ученикам. Они пришли к выводу, что заниматься им логикой несподручно, они хотели остаться в области психологии. Именно в этот период (1935 – 1936) была написана – опубликована значительно позднее, в 1939 г. – известная статья П.И.Зинченко, где говорилось о том, что отношение знака к действительности – предмет логики, что изучать это отношение психологи не могут, что они должны вернуться в собственно психологический предмет – им были объявлены действия человека, – Л.С.Выготский критиковался в этой статье за то, что он подменил истинный предмет психологии логическим предметом. Ученики Выготского вернулись к чистой психологии. Я не знаю, может быть, благодаря этому они кое-что и выиграли. Это вполне можно допустить. Но бесспорным является то, что с тех пор у них больше не было исследований по мышлению. Можно показать, что, благодаря отсутствию логического аспекта и логических средств, изучение мышления, в частности у П.Я.Гальперина, превратилось в изучение умственных действий, которые суть не мышление – последнее может происходить и вне ума, в виде деятельности с внешне данными знаковыми объектами – а действие в уме. Поэтому, естественно, что дискуссия была продолжена. Первые исследования П.Я.Гальперина начались с 1952 года в связи с работами Славиной, занимавшейся арифметикой с отстающими (учениками) и рассматривавшей свои результаты в контексте изучения личности ребенка. П.Я.Гальперин, с которым она обсуждала результаты своих занятий, решил, что полученный экспериментальный материал должен рассматриваться в контексте изучения мышления. Он поручил своим студентам – Ю.Б.Гиппенрейтер, В.В.Давыдову и Н.И.Непомнящей – серию исследований по мышлению, в частности на материале обучения счету. Первоначально эти исследования трактовались именно как исследования мышления. Но сам подход к ним был чисто психологическим, и поэтому действительного понимания и объяснения происходящих мыслительных процессов или, более точно, мыслительной деятельности, не получалось. В ходе исследований, весьма длительных, многолетних, Н.И.Непомнящая и, в особенности В.В.Давыдов, все больше обращались к логике и логическим методам. Установилась связь с развертывавшимися в этот период исследованиями по содержательно-генетической логике. К 1957 году стало достаточно очевидным, что психологические методы не дают возможности проанализировать и описать мыслительную деятельность, и что, наоборот, для описания и правильного объяснения обнаруженных фактов нужны специальные логические понятия. Это было зафиксировано во время докладов В.В.Давыдова и моих выступлений на семинаре у П.Я.Гальперина. Позднее основные моменты этой дискуссии были отражены в тезисах В.В.Давыдова и моих совместно с И.С.Ладенко на I съезде Общества психологов в 1959 году. С тех пор П.Я.Гальперин отказался от отождествления умственных действий с мышлением. Более того, и это было зафиксировано в беседе, состоявшейся у нас с ним после съезда, он отказался и от тезиса, что умственные действия описывают одну сторону мышления, ибо их объект оказался значительно более широким, чем собственно мышление: он охватывал также любое движение в представлениях, в том числе – представление практической деятельности с вещами. Это был вполне естественный результат, который повторял то, что один раз уже получилось у гештальтистов: дело в том, что мышление в его специфике нельзя определить в психологических понятиях, его специфика определяется только в рамках логики и через посредство ее понятий, а ум отдельного человека лишь отражает с помощью примерно одних и тех же механизмов как мышление, так и любую другую деятельность, например чисто практическую деятельность с вещами. Хотя после этих дискуссий П.Я.Гальперин уже больше нигде не писал о том, что умственные действия хоть в каком-то плане эквивалентны мышлению, не утверждал, что умственные действия есть психологический эквивалент мышления, тем не менее дискуссия о взаимоотношении между психологией и логикой и о необходимости обращения к логике в психологических исследованиях продолжалась. В этом пункте П.Я.Гальперин и другие ученики Л.С.Выготского остаются на тех же самых позициях ограничения своих исследований рамками чистой психологии, которые были выработаны им в 1935–1936 гг. Именно в этом пункте проходит разграничительная линия между первым поколением учеников Выготского – П.Я.Гальпериным, П.И.Зинченко, Д.Б.Элькониным, А.В.Запорожцем и вторым поколением – В.В.Давыдовым, Н.И.Непомнящей, С.Г.Якобсон, Н.С.Пантиной и др. П.Я.Гальперин продолжает дискуссию, выдвигая свои аргументы как против логиков, так и против психологов, опирающихся в своей работе на логический анализ. Вы можете познакомиться с этими аргументами в его статье в сборнике “Психологические теории мышления” (1966), в статьях в сборниках “Новые исследования”, а также в его докторской диссертации. С несколько другой аргументацией, но точно так же отстаивая чистоту психологии, выступают А.М.Матюшкин и А.В.Брушлинский. С мыслями первого вы можете познакомиться в сборнике “Психология мышления”, к которому он писал предисловие, с аргументацией второго – в уже названном сборнике Института философии. Примерно перед такими же проблемами – и вы теперь понимаете, почему я называю их моральными – оказывается исследователь детских групп: либо он должен перейти в область системно-структурных исследований, во всяком случае заниматься достаточно интенсивно и ими, либо же отказаться от данной темы, явно психологической и социально-психологической, и искать себе другие темы.
25. Системно-структурное представление объекта изучения
Итак, следуя этому принципу, мы с вами переходим в область системно-структурного анализа. Чтобы осуществлять этот анализ, нужно задать совсем особое представление объекта изучения. Это будет представление того объекта, с которым имеет дело наш исследователь, но совсем особое – в рамках и средствами того методологического предмета, в который он переходит. Это будет представление объекта как множества элементов и связей между ними, объединенных вместе каким-либо признаком целостности. По сути дела я уже не раз рисовал перед вами эти структурные объекты, но теперь я еще раз перерисую их в более наглядном виде:
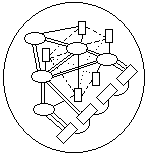
Схема 6.
В это изображение войдут изображения элементов разного типа. Между ними существуют связи, точно так же разные, и мы будем изображать это различием графики – одни черточки у нас будут одинарными, другие – двойными, третьи – пунктирными и т.п. Все это, кроме того, объединено и зафиксировано по каком-то признаку в виде единицы особого рода. Эти признаки могут быть разными – в одних случаях функциональными, по месту и назначению этого целого в еще более широкой системе, в других случаях атрибутивными, то есть, характеризующими это целое как особую вещь. Но какое-то свойство, задающее целостность, обязательно должно быть. Если его не будет, то не будет и объекта, то есть не будет группы как чего-то целого и одного.
Задав таким образом специфически структурный объект в предмете методологии системно-структурного исследования, я должен буду теперь рассмотреть, с одной стороны, теорию, методологическую теорию, этого объекта, а с другой стороны – и это другой поворот того же самого – методы анализа и описания структурных объектов разного типа, в том числе и таких структурных объектов, каким является группа.
|
|