
 |
Лекция 2
7. Резюме предыдущего: характеристика ситуации, в которой находится исследователь
Мы должны сейчас рассмотреть ту ситуацию, в которой оказался наблюдаемый нами исследователь в конце своих злоключений с определением темы работы. Перед ним имеются, с одной стороны, сферы практической, инженерно-конструктивной и методической деятельности, иначе говоря, его решений ждут воспитатель, методист, создающий новые приемы работы, и методист, вырабатывающий знания, обслуживающие сферы педагогической практики и педагогического конструирования. Сам он стоит “рядом” с областью, образованной этими тремя сферами деятельности, и спрашивает по отношению к объектам этой деятельности, что с ними можно или, соответственно, нельзя делать и что представляет собой сам этот объект. В нашем частном случае этот объект – дружеские взаимоотношения детей в процессе игры. Когда я говорю, что он спрашивает о “природе” объекта, то имею в виду, что он хочет знать, в частности, можно ли их воспитывать или они, к примеру, сами складываются и, следовательно, их нельзя воспитывать. Если же наоборот, речь идет о том, что надо что-то воспитывать, то спрашивается, что это такое, что собственно, будет объектом воспитательной деятельности. Одним словом, исследователь поставил какие-то вопросы относительно объекта этой сферы деятельности и должен на них ответить научным образом, т.е. в форме, что с ними вообще можно или нельзя делать. Говоря, что ответ должен быть дан строго научным образом, я, среди прочего, подчеркиваю, что он должен найти ответ каким-то особым способом, отличным от способов работы торндайковской обезьянки, которая беспорядочно пробует решить свою задачу и в конце концов иногда получает это решение. Интересно, что двигаясь таким путем, исследователь в лучшем случае может сказать, после того, как он случайно нашел решение, что можно сделать, но он никогда не может ответить, чего сделать нельзя. Получив случайное решение, исследователь может образовать знание вида: вот это, при данных неизменных условиях, можно сделать. Если условия хоть несколько изменились, он должен сказать: теперь я пас, ибо у меня нет знаний для этого случая, и я все пробы должен начинать снова. Становясь ученым, исследователь должен получить абстрактное знание, знание для разнообразных меняющихся условий, и для этого он должен действовать каким-то иным способом.

Схема 3
Мы уже выяснили с вами, что для получения научных знаний, для научных решений подобных задач и проблем нужно иметь специальную машину науки. Итак, в одной руке у нашего исследователя вопрос, поставленный относительно объектов практики, а в другой руке у него должна быть определенная машина науки со всеми ее блоками – эмпирического материала, онтологических схем и моделей, средств, метода и собственно научных знаний. Кроме того, в этой картинке должен быть еще двойной блок проблем и задач, но относящихся уже не к объектам практики, а к машине науки.
Исходя из практических запросов и задач, которые находятся у него “в одной руке”, исследователь должен выбрать ту машину науки, которая бы что-то дала ему для решения этих задач или, более общо, что-то говорила бы ему об объекте практической деятельности.
8. Объекты практики и объекты изучения
Те из вас, кто внимательно следит за моими рассуждениями, могут заметить, что я выразился неточно. Но я сделал это сознательно, чтобы иметь возможность затем поправиться и таким путем произвести очень важные для нас различения. Я сказал, что с помощью машины науки исследователь должен получить знания об объекте практической деятельности. На самом деле нужно говорить, что с помощью этой машины исследователь должен получить знания, которые могли бы применяться по отношению к объекту практической деятельности и в процессе этой практики. В сфере науки, как мы знаем, тоже должен быть определенный объект – мы его называем объектом изучения, но он отнюдь не обязательно совпадает с объектом практической деятельности, и даже наоборот, в принципе, он никогда не совпадает с объектом практической деятельности, если только эта практическая деятельность с самого начала не строится на объекте, созданном наукой. Это, следовательно, всегда должен быть какой-то иной объект, нежели объекты практики. Но между тем и другим в конце концов обязательно должны быть установлены какие-то отношения и переходы.
Здесь я сделаю маленькое отступление в сторону. Именно потому, что объекты практической деятельности в принципе и как правило не совпадают с объектами изучения в сфере совокупной человеческой науки понадобилась особая область, лежащая между, собственно, практикой, с одной стороны, и “чистой” наукой, с другой, которая называется прикладной наукой. Функции и назначение прикладных дисциплин состоят в том, чтобы задавать правила перехода от объектов научного изучения – а это всегда идеальные объекты – к объектам практической и конструктивно-инженерной деятельности. Так как объекты этих двух полярных сфер деятельности не совпадают, понадобилась специальная работа по установлению связей и соответствий между теми и другими. Для решения этой задачи и возникли прикладные дисциплины.
9. Выбор научного направления и “школы”
Возвращаемся к нашей основной теме. Будем считать, что исследователь уже имеет машину науки со всеми теми блоками, которые мы изобразили, с соответствующими наполнениями их. Мы предполагаем, что она уже выбрана и выбрана правильно.
Здесь перед исследователем встает новая очень сложная проблема, о которой мы до сих пор не говорили. Эта проблема не столько технологическая, сколько мировоззренческая, идеологическая и этическая. Вопрос заключается в том, что здесь исследователь должен выбрать кого-то в качестве авторитета и учителя. Иначе можно сказать, что он должен решить, с какой именно школой, с каким научным направлением связать свою судьбу, во всяком случае на некоторое немалое время. Предположим, что этот выбор сделан и наш исследователь самоопределился и в этом отношении.
Здесь нужно сделать еще одно замечание. Когда мы обращаемся к “точным” или уже ставшим естественным наукам, то там, как правило, всегда существуют две, три, максимум четыре конкурирующие между собой точки зрения. В рамках каждой из них работают, как правило, сотни, а иногда и тысячи исследователей, и различия между ними лежат не в блоках онтологии, средств, а в блоках моделей, может быть метода, и собственно научных знаний. Это значит, что все исследователи, примкнувшие к определенному направлению, имеют общие онтологические представления. Из этого следует, что физику или химику не так уж трудно делать свой выбор. Скорее он выбирает между различными областями эмпирического материала, а не между тем или иным типом машины науки. В другом положении находятся гуманитарии. Здесь, прежде всего из-за нерасчлененности и недифференцированности самой системы науки, из-за отсутствия специальных форм организованностей и из-за слабости методологического осознания, существует столько точек зрения, сколько есть исследователей. Давно отмечалось, а сейчас это признано почти всеми и стало в известном смысле банальным, что такое положение говорит не столько о богатстве этих систем, сколько наверное, о том, что там вообще нет наук в точном смысле этого слова. И мне эти соображения кажутся правильными.
Таким образом, наш исследователь оказывается прежде всего перед трудностью такого рода, что, с одной стороны, есть, вроде бы, много таких машин, а с другой, не оказывается ни одной работающей. Я потом еще дополнительно поясню, что это значит.
Но мы, чтобы продолжить наше движение, допустим почти невозможное и предположим, что наш исследователь выбрал какую-то из этих систем. Разыграем этот случай. В этом случае исследователь как бы входит внутрь подобной системы, или машины, как бы присваивает ее себе и начинает смотреть на мир сквозь эту систему, через наполнение ее блоков. Содержимое блоков этой системы и, прежде всего, блока онтологических картин, определяет то, что видит этот исследователь как действительность. Он будет видеть одни факты, и, наоборот, не будет видеть, не будет замечать другие факты. Для других исследователей факты, которых он не будет замечать, будут казаться такими же очевидными, как и те, которые он видит, но сам этот исследователь просто не будет их замечать. В этом есть своя жесткий логический смысл. Иначе и не может быть. Исследователь будет видеть в мире только то, что разрешает видеть принятая им онтологическая картина. Но точно так же он будет уметь делать только то, что заложено в его блоке средств и методов. И ничего больше.
С этим набором видений и способов деятельности, исследователь будет стремиться все больше и больше расширять блок эмпирического материала. Он будет искать в материале, с которым он работает, все новые и новые факты, которые бы укладывались в имеющуюся у него онтологическую картину, и могли бы обрабатываться с помощью имеющихся у него средств и методов.
Важно подчеркнуть, что возможности освоения всего мира с помощью любой ограниченной машины фактически беспредельны.
Это очень важный тезис, который нужно запомнить и понять. Какой бы ограниченной и наивной не была принятая онтологическая картина, какими бы ограниченными не были его средства и методы, но они могут схватывать и объяснять, по сути дела, весь объем мира. Вы, конечно, спросите, почему? Этот тезис кажется странным. Но ведь видится этому исследователю только то, что разрешает видеть его картина. Все то, что лежит за пределами возможностей принятой им онтологической картины просто не будет существовать. Иначе говоря, любое явление окружающего мира будет препарироваться и представляться таким образом, как оно должно выглядеть с точки зрения этой онтологической картины. При этом могут существовать вопиющие несоответствия между структурой онтологической картины и тем, что дано в объектах. Но эти различия все равно не будут замечаться. История науки свидетельствует об этом всеми своими фактами. Вещи, которые сейчас кажутся совершенно очевидными нам, не замечались тысячелетиями, хотя, казалось бы, люди с ними работали. Именно это я имею в виду, когда говорю, что возможности освоения всего мира каждой такой системой, по сути дела, беспредельны.
Но тогда перед вами сразу же должен возникнуть вопрос: а в каких же условиях рушатся подобные замкнутые системы машин научного знания. Это – особый вопрос, который мы должны будем специально обсуждать, когда перейдем к параграфу о фактах.
Поэтому, выбрав ту или иную машину науки и входящую в нее картину мира, исследователь обрекает себя на ограниченность особого рода: видеть только то, что разрешает видеть эта машина, обрабатывать только те факты, которые могут быть через нее схвачены. Исследователь привязывает себя к этой системе, и в известном смысле, тем самым предрешает свою дальнейшую судьбу: он будет хорошо видеть одни факты, но, вместе с тем, он будет слепым и глухим по отношению к другим фактам.
То, что я сказал, совсем не исключает того, что возможна внутренняя критика выбранной им системы. Вполне может оказаться, что вся работа исследователя внутри подобной машины приведет к накоплению таких фактов, которые, скажем, будут лучше объясняться в какой-то другой системе. И такое, между прочим, очень часто бывало: первая система машины открывала или порождала такие факты, которые могли быть объяснены только в рамках другой системы науки, а эта вторая система не могла открыть эти факты. То, что я сейчас говорю, станет более понятным, когда я покажу вам, что “факт” есть всегда некоторое противоречие, и до того, как появится подобное противоречие, нет и не может быть фактов. Но, если это так, то тогда, естественно, что некоторый факт-противоречие может быть зафиксирован в результате работы с некоторым эмпирическим материалом с помощью неадекватных ему средств.
Наверное, это можно даже сформулировать в виде некоторого общего принципа: факты, обрабатываемые в человеческой науке, появляются тогда, когда мы анализируем эмпирический материал с помощью неадекватных средств, а когда мы анализируем эмпирический материал с помощью адекватных средств, то тогда и фактов нет. Я хочу заметить, что, говоря обо всем этом, я несколько огрубляю реальное положение дел, но мне важно выразить все это в такой сознательно огрубленной форме, чтобы передать вам саму мысль, которая кажется мне правильной.
10. Условия возникновения методологической ситуации
Та работа исследователя, о которой мы сейчас говорили, может быть осуществлена при том условии, что есть системы науки и их достаточно мало. А если таких систем науки вообще нет или, наоборот, есть много конкурирующих друг с другом систем, и при том таких, что ни одной из них нельзя отдать предпочтение, то наш исследователь оказывается в положении, мягко сказать, довольно трудном. По сути дела, он оказывается в принципиально ином положении.
С одной стороны, у него есть вся та система практической деятельности, о которой мы говорили раньше, и все вставшие в ней вопросы (мы их уже перечисляли). С одной стороны, у него нет той системы машины, которую он мог бы взять, и с которой он мог бы работать. Вместе с тем, перед ним лежит целый ряд систем или их фрагментов, ни одна из которых его не устраивает. Когда исследователь попадает в такую ситуацию, то он уже не ученый-предметник. Он не психолог, не социолог, он – не логик, хотя только что перед этим он был ученым-предметником, и по-прежнему он хочет им быть. Но одного желания здесь мало. Из-за того, что ни одна из существующих систем науки не может быть им взята и использована для решения практических задач, а, с другой стороны, из-за того, что перед ним много разных систем, не удовлетворяющих его целям, исследователь попадает в особое положение – методолога-конкретника. Он становится методологом потому, что вынужден сделать объектом своей деятельности, своего анализа уже существующие научные теории, существующие системы наук. Он должен сделать их объектами своего специального изучения для того, чтобы в результате этого изучения построить некоторую новую систему науки, новую машину науки, которая бы его устраивала, т.е. которую он мог бы использовать для решения стоящих перед ним практических задач.
Нередко можно услышать тезис о том, что все, или почти все “крупные” ученые были философами и методологами. Декарт – философ, Лейбниц – философ, Галилей – философ, Ньютон – философ, Эйнштейн – философ. Если мы взглянем на эти факты с точки зрения только что рассказанного, то это станет не просто понятным, а будет видно, что это было необходимо. Мы поймем, что когда говорят “крупный” ученый, то имеют ввиду тех, кто построил новые машины науки. Это можно рассматривать как отличительный признак понятия “крупный” ученый. Но, чтобы построить новую машину науки, действительно нужно проделать особую работу, методологическую или философскую. Ведь это будет работа по переработке уже существующих машин в новую. И всякий кто это делает, должен работать уже не на эмпирическом материале той или иной конкретной науки с помощью уже имеющейся машины науки, а на всех уже существующих науках, как на эмпирическом материале особого рода. Другими словами, уже существующие машины науки будут выступать в роли особых объектов анализа. Исследователь-методолог должен будет произвести переработку их, трансформацию и ломку, создавая новый по своему строению объект, новую машину науки. И если какой-либо ученый-предметник, попав в ситуацию, которую мы выше охарактеризовали, начинает строить из материала старых наук новую, то он обязательно выступает в роли философа и методолога, а мы потом, глядя на результаты его работы, говорим: он был крупным ученым.
11. Элементы “методологической машины”
Но чтобы проделать подобную работу, нужны специальные средства. Мы уже поняли, что все начерченное мной выше, выступает для ученого-методолога в качестве эмпирического материала, причем, это очень сложный эмпирический материал, который он должен включить в свою особую, собственно философскую или методологическую машину. С этой машиной он должен особым образом работать и в ней есть свои особые элементы-блоки. Более детально вопрос о строении подобных систем нужно разбирать особо. Мне достаточно будет сказать сейчас, что в них, по-видимому, существуют свои средства и метод (онтологические картины, свои модели, свои средства и метод) и свой особый тип получающихся в результате знаний. Я употребил здесь слово “знания”, хотя правильнее было бы пока его не употреблять и говорить просто о продуктах деятельности этого рода.
В качестве средств для исследователя-методолога может выступать несколько разных образований. Одни из них выступают как гносеологические или эпистемологические средства и знания, а другие выступают как “онтологические знания”. Я поставил здесь последнее выражение в кавычках, чтобы как-то отметить специальный характер этих образований. Раньше именно эти и только эти образования назывались онтологическими. Теперь мы пользуемся этим выражением для обозначения другого: мы говорим “онтологическая картина” об определенном элементе любой системы науки. Но кроме того, есть еще философская онтология. Поэтому более точным было бы назвать их “философско-онтологическими знаниями”.
Когда мы с вами обсуждали возможные структуры науки или возможные процедуры научно-исследовательской деятельности, то все это относилось к сфере наших эпистемологических знаний, они относятся к набору тех средств, с помощью которых будет осуществляться определенная методологическая работа. В качестве философско-онтологической системы может выступать нечто другое: взаимодействие субъекта и объекта было такой онтологией для классической гносеологии, деятельность как универсум будет играть ту же роль в нашей системе.
Вам сейчас может показаться, что я как-то слишком далеко ушел от непосредственно психологического и социально-психологического материала. Вы можете думать, что к работе психолога или социального психолога все это имеет очень отдаленное отношение. Нет. Такая мысль была бы грубой ошибкой. Если вы начнете читать работы Ж.Пиаже или Л.С.Выготского, К.Левина или Толмена – в общем всякого хоть немножко выдающегося психолога, то вы увидите, что первое, с чего они всегда начинают, и к чему они в дальнейшем всегда все относят, и на что они постоянно ориентируются, – это определенный онтологический принцип. И больше того, все и любые их положения, психологические или социально-психологические, можно объяснять и выводить именно из особенностей их онтологии и принятых ими онтологических моделей. Если вы, к примеру, определяете свое отношение к концепции Пиаже или к концепции Выготского, стоя на позициях исследователя, который должен сделать свой выбор и принять ту или иную систему науки, чтобы дальше в ней работать, то вы обязаны и только и можете начинать анализ именно с этого принципа. Ибо, как правило, в любой достойной концепции все строится на этом принципе, и если вы его приняли, то не так-то легко возражать, но часто именно сам принцип нельзя принимать, ибо он противоречит сути того объекта, который исследуется. Например, есть целый ряд исследователей, которые очень последовательно развивали свою концепцию на базе отношения субъект – объект, и, оставаясь на позициях этой схемы, им трудно что-либо возразить, но если вы покажете, что сама эта схема, сам этот принцип не соответствует тому, что существует в человеческом мире, что на это уже нельзя ориентироваться, то тем самым вы разрушите все теоретические положения этой системы и всю ее строгую логику.
Поэтому четкая фиксация философско-онтологических и эпистемологических принципов является первым и необходимым условием при выборе того направления, которому вы отдадите свою жизнь.
Здесь нужно еще одно замечание. На прошлой лекции я уже говорил и сегодня еще раз хочу повторить, что положение психолога или социолога является значительно более тяжелым, чем положение физика, химика или биолога. Если в естественных или математических науках каждый молодой исследователь может ориентироваться на достаточно построенные и отработанные машины науки, то ни психолог, ни социолог не могут этого делать, ибо таких систем еще нет. Фактически, говоря широко, те, которые сидят в этой аудитории, и должны их построить. И главное, что вам придется это сделать, если вы хотите быть чем-то чуть большим, чем просто дипломированными лаборантами. Если же вы хотите хоть что-то сделать в современной научной психологии, вам придется начинать работу с охарактеризованных мною выше методологических ситуаций, вам придется делать философскую, методологическую работу, а это нельзя сделать, не определяя своего отношения к различным эпистемологическим и философско-онтологическим принципам, принятым в существующих сейчас системах психологии и социальной психологии. Именно поэтому наш очень известный психолог и педагог П.П.Блонский говорил, что нельзя в XX веке быть психологом или педагогом, не будучи при этом обязательно философом. И когда в 1928 г. его спрашивали, что он считает условиями и основаниями успешной психологической и педагогической работы, то он ответил: хорошее философское образование. И мне это представляется очень точным ответом.
Итак, если перед исследователем есть некоторая система науки, которую он может принять и с помощью которой может работать, то по сути дела он ограничивает себя определенным довольно узким кругом фактов, он не может видеть ничего, что не заложено уже по существу в этой системе, ограничивает возможности своей работы, а если такой системы нет, или он не может принять ни одну из тех, которые есть, то он вынужден проделывать особую работу критического рассмотрения и анализа существующих систем науки, он вынужден вырабатывать отношение к ним ко всем и благодаря этому невольно оказывается в положении методолога – кстати, в положении человека, довольно свободного по отношению ко всем этим системам – и должен проделать работу по переработке их всех в новую машину науки. При этом в качестве используемых им средств, и в частности, в качестве особой онтологической картины выступают специальные эпистемологические знания, например, теория науки, которую мы выше рассматривали, и философско-онтологические знания, например, взаимодействие субъекта и объекта или деятельность, в рамках которой мы с вами и будем в дальнейшем двигаться. Задача такого исследователя состоит в том, чтобы особым образом проанализировать уже существующие машины науки, в том числе входящие в них теоретические системы.
– А можно ли рассматривать в особой картине работу философа?
– Можно. Для этого нужно стать мета-философом, т.е. построить картину, объясняющую деятельность философа. Такой метакартиной, с моей точки зрения, является теория деятельности, поскольку она дает возможность рассматривать философа не как представителя абсолютного духа, а ставить его в определенные социальные условия и выводить создаваемую им философскую картину из определенного состояния науки. Если вы теперь зададите дополнительный вопрос: а можно ли рассматривать в определенной метакартине теорию деятельности, то я бы сказал, что сегодня нельзя. Теория деятельности, на мой взгляд, сегодня – особая рефлексивная система – если вас это заинтересует, то вы можете посмотреть особый цикл работ В.А.Лефевра – которая является “самой внешней” и замыкающей. До определенного момента всякая философская система является таким саморефлектирующим организмом, а потом она дает основание некоторой науке и сама обосновывается с помощью следующей философской системы. Таким образом, рефлексивное отношение разрывается и превращается в отношение внешнего описания и объяснения.
Итак, мы все еще обсуждаем ситуацию, в которой наш исследователь стоит перед набором разных систем науки. Мы предполагаем, что каждая из этих систем схватывает какой-то кусочек или какую-то сторону того объекта, который должен быть изучен. Каждая из этих систем, и все они вместе не устраивают исследователя и поэтому должны быть переработаны в новую машину науки. Оставим на некоторое время эту ситуацию, сделаем прыжок вперед и посмотрим, что должно получиться в результате этой работы методолога-конкретника.
Мы уже знаем, что он должен создать новую машину науки. Уже заранее мы можем сказать, что там должны быть все перечисленные нами блоки этой машины.
Здесь встает сложный вопрос: с чего надо начинать всю работу – с построения онтологической картины или с накопления нового эмпирического материала. Это вместе с тем вопрос о том, что такое “научный факт”.
12. Природа “научного факта”
Существует широко распространенное мнение, что “факты” – это то, что мы видим вокруг нас, например, какое-то поведение испытуемых, то, что мы можем измерить. Мне эти представления кажутся ошибочными и основанными на неверной, плохой философии, на плохом понимании того, что такое наука, и плохом знании истории науки.
Конечно, иногда так называемые факты могут появляться при работе непосредственно с объектами. Но если мы скажем, что то, что появляется при этом, что существует за этим, и является “фактом”, то это будет очень поверхностное представление. Не может быть факта вне отношения к тем или иным теоретическим знаниям и без какого-то ожидания того, что должно получиться при работе с эмпирическими объектами. Правда, в некоторых описаниях по истории науки мы можем столкнуться с такими случаями, когда называют фактами, к примеру, то, что открыл в 1820 году Эрстед. Я вам напомню суть его открытия. Он работал с электрическим контуром. Рядом случайно находилась магнитная стрелка. В ходе работы Эрстеду приходилось то замыкать, то размыкать его контур. И неожиданно он заметил, что магнитная стрелка отклоняется как при замыкании, так и при размыкании. Это был факт, положивший начало развитию новой научной дисциплины – теория электромагнетизма. Но если мы начнем анализировать этот “факт”, то заметим без труда, что явление, открытое Эрстедом, становится “фактом” лишь в соотнесении со всеми теми знаниями, которые в то время существовали и были у Эрстеда. По сути дела, это явление стало фактом науки потому, что оно никак не вязалось со всеми существовавшими в то время знаниями (можно сказать точнее и резче: оно противоречило всем установленным и закрепившимся культурно-научным положениям) и вызвало удивление у Эрстеда. Человечество благодарно Эрстеду не за то, что магнитная стрелка оказалась у него случайно рядом с контуром, а за то, что Эрстед обратил внимание на явление, которое не соответствовало его знаниям. Я сейчас оставляю в стороне другой момент: Эрстед определенно знал, что это явление вызывается его действиями, что оно каким-то образом связано с появлением электрического тока в контуре. Это уже второстепенный момент для высказанной мной мысли, хотя он требует специального анализа.
Если мы начнем анализировать смысл и содержание названного факта, то увидим, что он имел такое значение еще потому, что в нем случайно оказались совмещенными явления из двух областей, которые раньше никак не связывались, не соотносились друг с другом: замыкание электрического контура и пространственное отклонение стрелки компаса. “Факт”, открытый Эрстедом, заключался в том, что эти два явления оказались в причинной связи друг с другом. Мне важно подчеркнуть, что не само отклонение магнитной стрелки было фактом, а установленная в деятельности Эрстеда связь между этим явлением и замыканием электрического контура.
В последние 100 лет подобные факты получили специальное название “эффектов”: пьезоэлектрический эффект, эффект Рамана и др. факты этого рода – фиксация некоторой связи между явлениями, относимыми раньше к разным родам действительности. Это значит, что между ними не устанавливалось никакой теоретической связи. Но подобных фактов-эффектов в истории науки не так много. Обычно “факты” или “факты науки” появляются и создаются другим путем. Факты особым образом конструируются и при этом – с помощью теоретических рассуждений. В качестве примеров фактов такого рода я могу взять знаменитые апории греческой философии. Наверное, это одна из наиболее прозрачных моделей при объяснении того, что такое “факты”. В истории физики очень много сделал для создания новых фактов Галилей. Наверное, поэтому общепризнанным является мнение, что именно Галилей поставил современные физические науки на почву фактов, сделал их “опытными”. Действительный смысл этого утверждения таков: он рассуждал и в ходе этого рассуждения создавал то, что мы называем фактами. Это очень важно понимать. Если вам придется изучать историю физики, то вы, наверное, к своему большому удивлению, обнаружите, что предшественники Галилея ставили большое количество опытов, а он, в противоположность им, опытов ставил мало. Но несмотря на это, именно его считают основателем опытной науки, потому что он создал непререкаемые и бесспорные “факты”, а они лишь манипулировали с объектами и производили измерения. Чтобы пояснить свою мысль, я рассмотрю сейчас один из фактов, созданных Галилеем.
Предварительно одно замечание. Некоторые историки науки, описывая деятельность Галилея, представляют все дело так, будто он много оперировал с объектами и что-то непосредственно мерил, что будто бы в его знаменитых книгах описываются те манипуляции с объектами, которые он совершал. Это грубое заблуждение, если не фальсификация. Более детальный и честный анализ показал – и вы можете в этом убедиться, читая непосредственно работы самого Галилея – что подавляющее большинство из его “фактов” суть выдумки, то, что выдумывалось, а не осуществлялось реально, а часто даже вообще не могло быть осуществлено.
Кстати, я могу вам здесь сказать, что одной из интереснейших способностей Л.С.Выготского была его способность выдумывать факты. Рассказывают, что в одной из дискуссий с известным немецким психологом (кажется, это был Штерн) Выготский в пылу полемики не очень осторожно сказал: “Все это можно показать! Ведь существует такой факт!” На самом деле Выготский никогда не видел такого, поскольку опыты на этот счет ни им, ни его сотрудниками не ставились. Но вернувшись с дискуссии, он поручил своим сотрудникам поставить соответствующий опыт и, факт, указанный им, действительно был подтвержден в реальной материи. Выготский мог с такой уверенностью сказать, что выдвинутая им идея основывается на определенном “факте” потому, что он в рассуждении уже выявил этот факт, вывел его, при этом, с необходимостью. И он знал, что не ошибется.
Вернемся, однако, к обещанному “факту”, сконструированному Галилеем. Вот перед нами явление, которое люди наблюдали тысячи лет, и которое мы с вами можем наблюдать сейчас. Какое-то тело падает на землю, и это занимает определенное время. Падение тела может быть описано с помощью понятий пути, времени и быстроты, или скорости. Никакого факта в этом не было. Падение тела описывалось, начиная с Аристотеля, с помощью названных понятий: определялся и измерялся путь, пройденный телом, измерялось время, вычислялась скорость. Все было очень просто и не вызывало никакого удивления. Все движения, какими бы они ни были, равномерными или ускоренными, описывались таким образом. Хотя все знали, что падение тел на землю по природе своей является другим движением, нежели, скажем, движение солдат по дороге, бегуна во время олимпийских игр, лошади или корабля при ровном попутном ветре. Но между этими движениями не было никакой разницы с точки зрения состава и строения тех понятий, которые их описывали. В VI в. н. э. жил монах-философ Филопон, который учил, что все учение Аристотеля о движениях ложно. Его книги имели довольно большое распространение среди читающей публики. Они были известны, и его идеи находили сторонников, хотя и немногочисленных. Но утверждениям Филопона не верили, потому что он не мог указать никаких фактов, которые бы их подтверждали. Интересно, что Галилей в своих исходных идеях повторил многое из того, чему учил Филопон. Галилею поверили, и прежде всего потому, что через 1000 лет после Филопона, он сумел создать факты, подтверждающие его идеи. Здесь надо вообще заметить, что Галилей имел большой талант по части конструирования фактов. Посмотрим, как он их создавал.
Галилею нужно было изучить движение свободного падения тел на землю. Но это движение было очень трудно мерить, поскольку оно происходило довольно быстро, а часов для измерения таких коротких промежутков времени не было. Поэтому Галилей, чтобы иметь возможность мерить ускоренные движения, придумал особый прием как их замедлять. Он пускал тела не по вертикали, а по наклонной плоскости. Легко сообразить, что чем более пологой была наклонная, тем медленнее падало тело. Таким путем он мог получить ускоренные движения, происходившие достаточно медленно, во всяком случае столь медленно, чтобы он мог их мерить. Но для того, чтобы переносить полученные на этих “медленных” движениях результаты на обычные падения тел, нужно было еще сравнить те и другие.
Схема 4.
Так у Галилея родилась вторичная задача, которую он исследовал, сначала с помощью рассуждения, а потом предполагал исследовать и опытно. У него, таким образом, был треугольник, по вертикали которого он пускал падать одно тело, а по наклонной – другое. На этом треугольнике Галилей и рассуждал. Когда первое тело, движущееся по вертикали, достигло основания и прошло, следовательно, путь АС, второе тело, движущееся по наклонной, должно было находиться в точке D, и его путь, следовательно, был АD. Пути эти разные, а время их движения было одним и тем же. Зафиксировав это, Галилей делал вывод, что тело падающее по вертикали, движется быстрее, чем тело, падающее по наклонной. Но этот правильный результат не очень его удовлетворял. Параллельно ему Галилей провел второе рассуждение и, соответственно, применил другую процедуру определения скорости движения, с помощью которой он вывел, что тело по вертикали движется так же быстро, как и тело по наклонной, что у этих двух тел одна и та же скорость движения. Обычно, когда излагают эту вторую процедуру, то представляют дело таким образом, что будто бы Галилей эмпирически убедился в этом, что якобы он мерил время падения по вертикали и по наклонной, а потом делил соответствующие расстояния на это время и получал одинаковые скорости. Действительно, таким образом можно было бы убедиться в справедливости сделанного утверждения о равенстве скоростей движений этих двух тел. Но Галилей получил его не так, а чисто теоретически. Он знал, что скорости падения тел в конечных точках будут одинаковы, а так как начальные скорости тоже одинаковы, то и средние скорости у них должны были быть одинаковыми. Это и давало ему право сказать, что оба тела движутся одинаково быстро. Но нам сейчас важно не столько то, как именно Галилей получал этот вывод, сколько то, что он его вообще получал.
В результате у Галилея получились два противоположных суждения об одном и том же явлении: 1) скорости падения тел, движущихся по вертикали и по наклонной, равны и 2) тело движущееся по вертикали, имеет большую скорость, чем тело движущееся по наклонной. Здесь надо добавить, что Галилей вывел и такую ситуацию, когда получалось суждение, что тело, падающее по наклонной имеет большую скорость, чем тело, падающее по вертикали. Так второе из приведенных нами утверждений переводилось в более общую форму: скорости движения тел по наклонной и по вертикали не равны. Важно, что как в первом, так и во втором варианте, мы получали очевидный парадокс или, говоря языком древних, апорию. И вот это образование и стало в сущности некоторым “фактом” или, точнее научным фактом, который положил начало новому циклу научных исследований.
Можно было бы привести много подобных примеров из истории науки, но какой бы из них мы ни взяли они все будут иметь примерно такую же структуру, как и разобранный нами.
И какую бы науку мы сейчас ни взяли, современную или прошлую, мы всюду обнаружим, что так называемые факты (во всяком случае значительная часть их) представляют собой не что иное, как особое противоречие между знаниями, противоречие, появляющееся в результате исследования этого объекта. Но точно так же можно понять, что в своей основе фиксация этого противоречия есть форма фиксации того или иного несоответствия между имеющимися у нас знаниями об объектах деятельности и этими объектами. Иначе говоря, определенное расхождение или несоответствие между нашими знаниями и объектами, представленное в форме особого рассуждения или, точнее, особой структуры в рассуждении, и есть то, что называют обычно фактом.
Нередко говорят, что факты упрямая вещь. Это действительно так. Но я надеюсь, что в результате моих рассуждений вы будете знать и понимать, что это упрямство обусловлено отнюдь не природой объектов, а неуравновешенностью между элементами нашей деятельности. Я надеюсь в дальнейшем показать, что уравновешенность, наоборот, не создает факта. Это очень интересный момент, заставляющий нас и удивляться, и задумываться. И может быть кто-либо из вас найдет ему хорошее объяснение.
Из разобранного примера у вас может сложиться впечатление, что так называемый факт предполагает всегда и обязательно какую-то работу с эмпирическими объектами: движущимися телами, вертикальными или наклонными плоскостями и т.п. Такое мнение было бы ошибочным. Я уже говорил, что Галилей создает огромное количество фактов с помощью “чистого” рассуждения, совсем не обращаясь к объектам. И эти факты ничем не хуже, чем первые, а во многих отношениях даже лучше, потому, что, как правило, они имеют более общий смысл и значение. Например, подобный факт он создает при доказательстве независимости ускорения свободного падения тела от его веса. Желающие могут посмотреть соответствующие фрагменты текстов непосредственно в работах Галилея. Нам важно здесь только одно, что подобный чисто теоретический факт вполне возможен, и лишь позднее он может быть повторен реально, в некотором материале.
В этой связи я могу ответить на один вопрос, который задавался мне раньше по поводу лекции Н.И.Непомнящей. Меня спрашивали об основном смысле ее лекции. Отвечаю: она старалась показать, что так называемый эксперимент представляет собой попытку реализовать на объектах парадоксальный факт. Говоря о реализации, я имею в виду то различие формальной онтологизации и материальной реализации, о котором я говорил в лекциях первого цикла. В некоторых случаях реализуются одна или несколько компонентов парадоксального факта, в других – объясняющая их модель, но это для нас сейчас не имеет принципиального значения. Это – короткое резюме ее лекции, которая, как вы помните, читалась на психологическом материале.
Вернемся, однако, к нашему исследователю, психологу или социальному психологу. Исследователь этот должен построить новую систему науки. Для этого он должен, в числе прочего, заполнить блок эмпирического материала. Мы можем спросить себя: чем? Соответственно всему сказанному выше мы должны ответить: набором сконструированных им фактов. Какие же это могут быть факты? И, главное, как они могут быть получены?
13. Пути и способы получения фактов
Обычно считается, что факты получаются либо путем наблюдения – при этом я предполагаю, что исследователь описывает не просто явления, а удивляющие его явления, явления не соответствующие его знаниям, – либо же путем специальных теоретических рассуждений и конструирования их в той или иной форме, в частности, в виде парадоксов. Для нас очень важен тезис, что явления, фиксируемые путем наблюдений, сами по себе не могут быть фактами. А.Н.Леонтьев очень остроумно и ядовито смеялся над опытами Щелованова и его сотрудников. Одно время Щелованов очень увлекался современными формами фиксации поведения детей. Сначала его сотрудники, непрерывно сидя у специального наблюдательного окна, фиксировали все действия и все реакции детей в записных книжках. Потом они ввели кино, которое непрерывно снимало это поведение. Докладывая о своей работе на конференции, Щелованов очень сокрушался, что в то время кино не было цветным и не могло фиксировать также и краски реальной ситуации. Леонтьев, якобы, в этой связи заметил, что лучше уж ничего не снимать, а просто пойти и поглядеть на детей. Щелованов, по-видимому, думал, что тетради с записями или кино, демонстрирующее поведение детей, дают те факты, которые необходимы эмпирической науке. Это очень прозрачное заблуждение. Говорят, что до сих пор, вот уже более 30 лет, горы исписанных тетрадей и кинолент хранятся в подвалах этого института, ибо нашлись люди, которые записывали и снимали все это на пленку, но не нашлось и не могло найтись ни одного человека, который взял бы на себя этот бессмысленный труд по анализу и разбору их. Вся эта груда материала была просто ничем, и уж во всяком случае, не давала никаких научных фактов. Я не отрицаю того, что можно получить какие-то факты и даже научные факты путем наблюдения, к примеру, наблюдая поведение детей в группе. Но все эти явления нужно еще особым образом описать и, главное, представить их как факты. А это очень трудно. Значительно легче получать факты другим путем, двигаясь от уже имеющихся теоретических знаний, так обрабатывая их, строя на них такие рассуждения, которые бы создавали нам факты в прямом и точном смысле этого слова.
Самый легкий и перспективный путь выявления “фактов” состоит в том, чтобы взять все построенные к настоящему времени научные теории и начать сопоставлять входящие в них научные знания друг с другом. Я надеюсь, что идея этого утверждения для вас уже ясна. Надо только вспомнить, каким образом сконструировал свой факт Галилей. Он взял одну процедуру изучения объекта и получил с помощью нее определенное знание. Затем он выбрал другую процедуру получения знаний и зафиксировал второе знание. Сопоставив эти два знания друг с другом, он и получил парадокс или факт. Значит факт здесь получился благодаря сопоставлению разных знаний друг с другом. Этот ход можно повторить. Если наш исследователь может взять полученные до него разнообразные знания, и может так сопоставить их друг с другом, чтобы в результате между ними получилось противоречие или какое-то несогласие, то таким образом он и получит то, что может служить “фактами” для его собственного исследования. Правда, все это возможно только при одном условии, если выбираемые им исследователи работают логически правильно и если, следовательно, их знания получены путем правильных и точных процедур.
Таким образом, мы можем уточнить одну из наших предшествующих формулировок факта. Факт получается только в том случае, если сопоставляемые нами знания получены путем правильных процедур. Чтобы проверить знания на этот счет, мы всегда должны проделывать специальную дополнительную работу и иногда заменять неточные и нехорошие знания правильными и более точными, полученными на тех же объектах и в связи с теми же задачами путем более правильных процедур. Если в своем исследовании вы исходите из случайных знаний, полученных в результате неверных процедур, неправильного мышления, то никаких фактов вам получить не удастся или, иначе говоря, те парадоксы, которые вы, пусть даже, зафиксируете не дадут вам никаких фактов. Именно поэтому в современной науке, когда приходят сообщения об открытии каких-либо новых фактов, то первое, что делают, начинают их проверять и если получается то же самое, получается массовидно и постоянно, то только тогда новый результат признают за некоторый факт. Ясно также, что таким образом проверяют лишь те результаты, которые кажутся неожиданными, которые перевертывают ваше представление. А если результат банален, если он подтверждает то, что вы и раньше знали, то что его проверять? На него просто никто не обращает внимания.
Итак, факты должны быть сконструированы. Мы можем конструировать эти факты, работая непосредственно с объектами. Но это очень тяжелое дело, потому что нужно еще иметь особые средства описания объекта. А сначала, до того как построено новое теоретическое представление, никогда не известно, что именно имеет значение и должно быть описано, а что не имеет значения и может быть просто опущено. В этом плане просто очень интересны, например, первые работы Фарадея, в которых он описывал явления электромагнетизма. Надо сказать, что вся его работа, по сути дела, была лишь одним конструированием фактов. Но сначала Фарадей вообще не знал, что нужно фиксировать и описывать, а что не нужно. Он описывал длину взятых им проводов, их материал, конфигурацию контуров и т.д., т.е. многое из того, что сейчас при описании электромагнитных явлений совершенно игнорируется как несущественное. Лишь потом, когда Ампер, а затем Максвелл и др. построили соответствующие онтологические картины и модели, стало ясно, что именно нужно было бы описывать при фиксации фактов. Но все это стало ясно лишь ретроспективно, а Фарадей, естественно, ничего этого не знал. Но из этих примеров следует, что если вы начинаете работать на новом объектном материале, то перед вами неизбежно встает вопрос о том, что надо и что не надо описывать. Если вы работаете на системе уже полученных ранее знаний, то работа по конструированию фактов значительно облегчается.
В какой-то раз я вновь вспоминаю об исследователе, за работой которого мы наблюдаем. Я много раз возвращался к нему и снова вынужден был оставлять. Вернемся еще раз.
Наш исследователь, как вы помните, должен построить машину науки, а для этого, как мы уже выяснили, набрать определенный набор фактов в свой блок эмпирического материала. Мы наметили также путь, по которому он пойдет: он начинает сопоставлять друг с другом имеющиеся в его распоряжении теоретические знания, и, вместе с тем, может фиксировать то, что он видит при непосредственном наблюдении объекта. Эти две линии сходятся и сливаются в его работе, прежде всего из-за трудности педагогического и психологического исследования. Мы говорили, что все существующие ныне теоретические системы психологии и педагогики фактически не удовлетворяют тем жестким требованиям научности, которые он обязан предъявлять материалу такого рода. Попросту говоря, в области педагогики и психологии до сих пор, как правило, никогда не ясно, что является действительно фактом, а что просто произвольная выдумка. Поэтому любому исследователю, в том числе и нашему, приходится каждый раз или, во всяком случае, часто проверять те теоретические положения, которые он берет.
Из всего того, что я говорил выше, вы должны были понять, что отнюдь не все, что видит наш исследователь, является фактом. Это должно быть либо противоречие, либо факт примерно такого рода, какой получил Эрстед, т.е. связь между явлениями, которые раньше оценивались как разнокачественные и не входящие в одну систему. Сейчас я опишу два факта, которые были исходными в прослеживаемом нами исследовании.
14. Исходные факты рассматриваемого исследования
Один из этих фактов я уже коротко охарактеризовал вам в первой лекции первого цикла. Но сейчас нам нужно разобрать его более подробно. Группа детей играет с воспитателем. Воспитатель руководит игрой, он рассказал, что, кому и как нужно делать. Дети следуют указаниям воспитателя. Игра – самолетики. Дети бегают по комнате, изображают “виражи”, взлетают с аэродрома, садятся, покачивают крыльями, иногда угрожают друг другу и идут на столкновение. Но все это в весьма мирных тонах, в полном соответствии с нормами игрового поведения. В середине появляется новый мальчик, который хочет подключиться к игре. Но он имеет о себе высокое мнение и не хочет включаться в общую игру в роли самолета. Он – индивидуалист, у него особые претензии. Он становится рядом с воспитателем и пытается управлять игрой, подсказывая другим детям, что и как они должны делать. Иногда он просто повторяет, что говорит воспитатель, иногда стремится опередить его. Дети стараются игнорировать его, не выполняя его советов, и даже делают наоборот. Мальчик продолжает свою игру с известным упорством, но чем упорнее становится он, тем упорнее становятся и другие. У него нет никаких надежд на реализацию своего плана, он начинает это понимать. Поэтому в какой-то момент он бросает свою безнадежную позицию и включается в игру на роли самолета. Он повторяет все то, что делают другие, бегая между ними. Но его появление перестраивает картину всей игры. Если до этого все дети, “летая” и “воюя” друг с другом, соблюдали правила и нормы игрового поведения, то теперь под видом того же самого и в форме тех же самых игровых столкновений, они, довольно скоро всем скопом налетают на него и под видом игрового столкновения наносят такой удар, что мальчик летит на пол, сильно расшибается и начинает плакать. Все остальные, удовлетворенные, продолжают свою игру.
Я сознательно сейчас рассказываю все это таким образом, чтобы было неясно, факт это или не факт. Над этим вам предстоит подумать самим. А я пока буду рассказывать вам о другом случае.
Игра происходит без участия и наблюдения воспитателя. Имеется ведущий ребенок, очень активный и авторитетный, который принимает на себя роль “главного” самолета. Он не только объясняет всем замысел игры, но и в ходе ее постоянно указывает остальным детям, что и в каком порядке они должны делать. Он командует ими, дети в соответствии с его указаниями выстраиваются и перестраиваются, садятся и взлетают. Ситуация очень понятная и оправданная, потому что этот ребенок изображает “главный” самолет. Когда они приняли замысел данной игры и согласились с исходным распределением ролей, то тем самым они приняли ведущую роль этого мальчика, т.е. ведущую роль “главного” самолета, и должны выполнять его указания и распоряжения, подчиняясь общему замыслу, правилам и логике игры. Мне сейчас не понятно, что чем здесь определяется: то ли они выполняют все его указания, потому что он – ведущий самолет, то ли он – ведущий самолет, потому что пользуется и без этого большим авторитетом, и все связанные с этим моменты я сейчас не обсуждаю, я просто описываю вам некоторый случай. Но дальше в ходе игры происходит изменение, которое, наверное, привлечет ваше внимание. В какой-то момент ведущему мальчику надоедает его роль и связанные с ней функции. Он выбирает из группы одного мальчика, которого ставит посередине, и присваивает ему роль управляющей вышки. В ее функции будет входить управление полетами всех других мальчиков. Нетрудно заметить, что положение в игре изменилось. Раньше командовал и управлял “главный” самолет, а теперь управляет и командует “башня”, т.е. второй мальчик, но второй мальчик не очень активен и не так авторитетен, как первый. Теперь первый как и все остальные, должен подчиняться указаниям “управляющей башни”. Но не тут-то было! Он, правда, не говорит теперь всем остальным детям, что они должны делать, но он начинает командовать мальчиком-башней и непрерывно подсказывает ему, куда и как должен лететь каждый из самолетов. “Миша должен лететь в правый угол комнаты”, – кричит он. “Прикажи ему это, теперь все должны по двое лететь к двери, прикажи это” и т.д., и т.п.
Можем ли мы считать рассказанный мной случай некоторым фактом или описанием факта?
Вспомним наши теоретические рассуждения в начале сегодняшней лекции. Мы уже знаем, что те или иные явления становятся фактами лишь в том случае и тогда, когда они соотносятся с существующими теоретическими знаниями и в зависимости от отношения к этим знаниям либо становятся некоторым научным фактом, либо не являются таковым. Таким образом, мы должны обратиться к нашим теоретическим знаниям и выяснить, как выглядят относительно них описанные нами явления.
Теоретическое знание говорит нам о том, что поведение детей в игре должно подчиняться логике сюжета игры. В игре каждый играющий может делать то, что предписывает ему принятая на себя роль, и таким образом, как роль этого требует. Командовать может либо “главный” самолет, либо же “управляющая башня”. Если ограничиться одним этим знанием, то нужно будет сказать, что в обоих описанных мной случаях явление не соответствует знанию, представляет собой нарушение его. Во втором из описанных случаев это, по-видимому, выступает наиболее отчетливо: хотя первый мальчик в какой-то момент передает свою управляющую роль другому и, следовательно, согласно сюжету игры, теряет право командовать и управлять, он продолжает это делать, продолжает вопреки сюжету. И мы, естественно, можем спросить: Почему это происходит? На какой основе он командует? Что дает ему право это делать? Почему остальные дети продолжают слушаться его?
Когда мы таким образом соотнесли описанное нами явление со знанием, когда мы представили его как расходящееся со знанием, тогда это начинает немножко походить на факт. Может быть это и не такие факты, какие были у Галилея, но это уже маленькие “фактики”, из которых со временем может быть удастся построить факты. Иначе говоря, наше явление приобретает некоторый налет фактичности.
Мы можем изобразить в схемах, как систему отношений, задаваемую сюжетом игры, так и действительно реализующуюся систему отношений. Мы можем сопоставить их друг с другом и тогда отчетливо увидим расхождение между тем, что можно ожидать на основе записанного выше знания, и тем, что происходит реально.
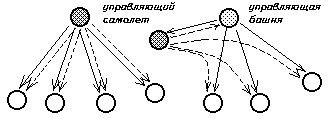
Схема 5.
Если теперь попробовать описать и объяснить то, что здесь происходит, то мы должны будем для второго случая зафиксировать резкий разрыв между теми отношениями управления, которые заданы сюжетом, и тем, что происходит на самом деле. А для первого случая, наверное, перенос тех отношений, которые установились между детьми до того, как новый мальчик стал изображать самолет, в сюжет и логику самой игры. Иными словами, это – перенос в сюжетные отношения тех отношений, которые возникли до этого и вне сюжета, в частности тогда, когда новый мальчик пытался командовать остальными. Но, описав названные явления таким образом, я получаю возможность сделать следующий шаг, а именно – поставить новый вопрос. Я могу теперь спросить о тех компонентах игры детей, которые заданы сюжетом, и о тех компонентах, которые определяются факторами, лежащими вне сюжета данной игры. Мне приходится, чтобы как-то объяснить описанные явления, ввести эти новые различения, выделить сюжет, правда, это я должен был знать и раньше, из других концепций и теорий, и затем соотнести эти две группы компонентов и факторов. Я получаю возможность показать, что во втором случае сюжетные отношения явно нарушаются или разрушаются благодаря действию внесюжетных факторов, а в первом случае, несюжетные отношения образуют как бы подоснову для сюжетных и придают им новое качество. О первом случае можно сказать еще иначе: В нем в форме сюжетных отношений проявляются отношения, складывающиеся в какой-то иной сфере. Эти два явления, может быть взятые по отдельности, а еще лучше, соотнесенные друг с другом, образуют некоторый исходный факт. Они, следовательно, должны быть помещены нами в блок эмпирического материала. Но ... пока неизвестно, – какой (именно) научной машины. Ведь мы еще должны предварительно спросить себя, какая именно система научного знания описывает и объясняет эти факты, т.е. более общо, дает им онтологическую или теоретическую схему изображения.
Мы, таким образом, переходим к новому этапу нашего анализа: теперь уже не на эмпирическом материале групп, а на материале существующих научных теорий.
15. Поиск объясняющих понятий и схем – обобщение факта
Здесь, правда, нас ждет разочарование, ибо обнаруживается, что ни одна их существующих научных систем, по сути дела, не может дать ни удовлетворительного описания, ни объяснения указанным фактам.
Это нельзя понимать абсолютно. Когда названные факты выявлены и описаны в схемах примерно такого рода, какие мы выше ввели, обнаруживается, что, фактически, явления, описанные нами, были уже зафиксированы в некоторых концепциях и что даже делались попытки дать им какое-то объяснение. В конце концов мы даже начинаем понимать, что факты такого рода описывались очень давно и, по сути дела, общеизвестны. Д.Б.Эльконин не раз писал, что дети переходят из плана сюжета, т.е. “нереального”, в план реальных отношений. А до него об этом писали масса других исследователей. Значит, в своем факте мы фиксируем некоторое массовидное явление. Иначе говоря, описанный нами факт сродни всем тем, многократно описанным случаям, когда какой-нибудь ребенок перестает выполнять свою роль, и тогда все остальные как бы выходят из плоскости сюжета и начинают корить и воспитывать его по-настоящему, в плоскости их реальных, а не игровых, не “понарошку”, отношений.
У детей есть даже специальное выражение, чтобы выяснить, в каком плане действует другой ребенок. Они спрашивают друг друга: “ты что это “понарошку или по-настоящему?” Таким образом оказывается, что дети очень хорошо понимают, почему они делают одно и другое, одно делается потому, что этого требует сюжет, потому, что ребенок – самолет или управляющая башня, а другое делается им, как ребенком, как данной личностью, Колей, Ваней или Семой.
Таким образом, после того, как мы выразили в схемах наши явления, представили их в виде особого схематизированного факта, то на это представление, или схему, начинают нанизываться все новые и новые явления из разнообразных областей и сфер наблюдения.
Мы начинаем видеть, что в определенных случаях ребенок, захвативший наиболее активную, ведущую роль, начинает затягивать всю игру, чтобы как можно дольше сохранять свое положение: он ведет себя таким образом, что игра не переходит в свои следующие фазы, где более активными и ведущими должны быть другие дети. И очень часто, когда всем это надоедает, все дети сразу выходят из плоскости игры и начинают наводить порядок уже не как участники сюжета, не в силу и по праву своих ролей, а как члены коллектива, как играющие дети. Они говорят: кончай все это дело, иначе мы с тобой не будем играть. И если первый ребенок подчиняется, они вновь возвращаются в план игры, и игра вновь продолжается в соответствии со своим сюжетом.
Итак, положим, что мы зафиксировали все эти факты – две плоскости игровой деятельности: плоскость сюжета или действий “понарошку” и плоскость реальных взаимоотношений между детьми, как членами коллектива. Но теперь все это нужно связать и объяснить в рамках единой научно-теоретической системы. Это значит, прежде всего, что нужно построить такую онтологическую картину, которая бы связывала в рамках единого системного объекта все эти явления. Но, как оказывается, такой онтологической картины нет ни в одной из научных систем, к которым обращается наш исследователь.
Литература: Щедровицкий Г.П. Надежина Р.Г. Развитие детей и проблемы нравственного воспитания // Обучение и развитие. Материалы к симпозиуму. М., 1966; Щедровицкий Г.П. Игра и “детское общество” // Дошкольное воспитание. 1964. № 4]
Чтобы подготовиться к следующей лекции, вы должны взять сборник “Проблемы исследования систем и структур. Материалы к конференции”, М., 1965 – сообщения Р.Г.Надежиной, О.И.Генисаретского, Г.П.Щедровицкого.
|
|